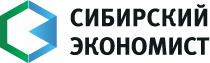Наш герой — Иван Сорока, врач, мануальный терапевт и создатель центра движения «Остум» в Иркутске. Узнали у него, как устроен его бизнес в сфере реабилитации.
— Иван, давайте всё-таки для наших читателей внесем ясность: чем отличаются массажист, мануальный терапевт и остеопат?
— Мануальный терапевт отличается от массажиста наличием высшего медицинского образования. Массажист имеет среднее образование — колледж, потом идёт переподготовка по массажу. Он учится и получает дополнительную сертификацию — как и у врачей.
С остеопатией интересно, потому что раньше она входила в мануальную терапию как раздел, а затем стала больше. И примерно шесть лет назад она стала отдельным институтом при других университетах. Я считаю, что это такой способ уйти от термина «мануальная терапия», которая была сформирована в 90-х годах. Это исключительно российское направление, которое раньше занималось чем-то непонятным, что-то с костями — врачи колотили больно, что-то с телом делали.
Постепенно это направление развивалось, мануальные терапевты уезжали в Европу, в Америку, учились остеопатическим техникам, навыкам и внедряли их в мануальную терапию. Но остался негативный подтекст среди населения. Менять это как-то не хотелось, вместо этого образовалась такая специальность как остеопатия.
На данный момент в остеопатии можно отучиться, если ты окончил школу, поступил в институт остеопатии и 4 года отучился. И ты будешь врач-остеопат. Что, на мой взгляд, большая проблема, и в ближайшие, я думаю, 7-10 лет это навредит им самим же, потому что класс специалиста будет разный: все-таки медицинский университет — это 6 лет, плюс они заставляют также 4 года учиться у себя, потому что это отдельный институт, а не магистратура или ординатура на два года.
При этом анатомия там не такая углубленная, и очень много недоказательных баз: энергетические какие-то техники — куда-то там они сдвигают энергию, жидкости какие-то внутри тела двигают. И эти разделы на полном серьезе преподаются. Я думаю, они сами себя дискредитируют тем, что будут специалисты не очень хорошего качества выпускаться.
Единственный бонус у остеопатии — у них есть свой перечень диагнозов. Стандарты мануальных терапевтов и стандарты остеопатов — они разные. Стандарты мануальных терапевтов не позволяют нам юридически назначать свои услуги. Меня невролог должен прописать или терапевт другой, либо у меня должно быть несколько специальностей, чтобы я сам мог себя назначить.
— С точки зрения обычного человека, у которого что-то болит — как понять, куда идти: к массажисту, к мануальному терапевту или к остеопату?
— А нет как такового вообще понимания. В медицине постоянно новые специальности появляются. Например, в 2020 году внедрили физическую реабилитационную медицину. И врачи, которые выпускались в один год со мной, о ее существовании до сих пор не знают. Эта специальность более широкая, она в себя включает и остеопатию, и мануальную терапию, физио- и иглорефлексотерапию, она очень обширна. В теории должно работать так: человек приходит к врачу физико-реабилитационной медицины как в большую поликлинику, а он уже отправляет к мануальному терапевту или остеопату.
Терапевты, которые выпускались в 2018 году, не знают, что есть такие специальности, поэтому они даже не понимают их функционал и почему к ним надо направлять. И они отправляют по старинке — к неврологам или травматологам. А это не их профиль, те говорят: у вас все в порядке, и проблема человека не решается. В лучшем случае невролог назначит какое-то неспецифическое лечение. Если невролог более-менее свежий — он назначит мануальную терапию, а если он допустим в 90-х годах окончил — он эту «мануальную терапию» видел, и он скорее скажет: туда вообще ходить не надо, вас там поломают. А медицина же меняется: раньше и хирурги удаляли много чего, а сейчас органосохраняющие операции делают. Раньше ноги ампутировали, а сейчас можно суставчик поменять.
Всё развивается, и нельзя говорить, что мануальная терапия осталась где-то в зачатках и так и прозябает. Нет, всё идет вперед, большое количество исследований на том же пабмеде. Количество работ в направлении массажа, мануальной терапии и восстановительной медицины выросло с 2004 года в несколько тысяч раз. Это направление очень интересное. Осталось доказать, что работает и как.
— Вы сначала работали в госмедицине?
— Да, пять лет. Изначально в областной больнице в нейрососудистом центре — это отделение, работающее с пациентами со спинальными всякими патологиями, травмами головного мозга, инсультами, там палаты интенсивной терапии и неврологическое отделение, где в основном сосудистые нарушения. Потом ушел в хоспис. Пришел туда работать, потому что туда мы людей с реанимации-то и отправляли более тяжелых. Там работал два с лишним года терапевтом.
Реабилитационной специальности у них не было. А там разные проблемы, есть отделение социальное, неврологическое и онкологическое. В социальном отделении лежат люди, которые не могут за собой ухаживать. Допустим, наглядный пример был: дядька полностью в сохране, 60 лет, его сбила машина, сломал он таз. Ему в травматологии металлоконструкцию наложили, 20 дней подержали, все выписываем. Выписывать куда? У него дочки все в Москве живут, жены нет, тут один. Все, что ему делать? Сам себя обслуживать он не может, денег на сиделку нет. Вот, пожалуйста, социальное отделение в хосписе. Он у нас 2 месяца пролежал, ему металлоконструкцию сняли, мы с ним позанимались, на ноги его поставили, он спокойно ушел домой.
Бывают ампутированные конечности, тоже им надо позаживать где-то, полежать, а просто так лежать в больнице нельзя, в больнице лечиться надо. А лечение у нас — это устранение какого-то недуга конкретного, а период восстановления — это уже не лечение, это уже само заживет. А на самом деле этот процесс тоже часто очень нужно контролировать для того, чтобы не было осложнений, чтобы социально вернуть человека в то общество, из которого он вышел по заболеванию. То есть основная задача такая.
— Когда открыли свой центр?
— Я параллельно работал с самого начала, с шестого курса, ездил по домам сначала, а потом съехал на аренду. У меня была пациентка, она, можно сказать, и оплатила мне первую аренду. Года полтора я работал один, потом мы с Егором Кадочниковым — у него сейчас «Технология тела» — вместе снимали помещение два с половиной года. Потом он решил больше обучением заниматься, а я — расширяться, потому что у меня проблема была с тем, что некуда людей записывать. Он на тот момент уже твердо на ноги встал, и я просто сюда переехал, а он там остался.
— Это ваше помещение или арендное?
— Арендное. Нет смысла брать коммерческую недвижимость до тысячи квадратов точно. Потому что ты его сильно быстро перерастаешь.
— Как набирали команду?
— Я никого не искал. Вообще правильно, чтобы тебя искали люди, а не ты людей. Потому что, если ты будешь искать, это будут, как правило, незамотивированные люди. Им нужен не ты, а доход. А люди, которые находят тебя — настроены что-то в жизни поменять и готовы что-то делать. Поэтому их лучше всего брать. Все люди, которых я сам находил, ушли. А те, которые пришли сами — все остались. Среди врачебного сообщества у меня есть какая-то известность, поэтому если где-то я пишу, что есть места, люди сами приходят.
— Вы больше зарабатываете своими приемами или центр приносит доход?
— В процентом соотношении на 60% выручку организации делаю я сам лично. Все остальное — ребята. По факту они окупают свою работу, частично работу администраторов, ну и аренда с расходкой — если месяц хорошо удался. А если нет, то я со своих доплачиваю.
— Устраивает такой расклад или есть надежда на то, что будет потом иначе?
— Если будет объем — будет хорошо. Модель-то понятная. Не работать тут не получится в любом случае. Себестоимость при большем объеме будет снижаться, мой доход будет расти. Хотя бы 15 надо специалистов, чтобы это работало хотя бы в плюс какой-то хороший. Чтобы что-то сопоставимое с тем, что ты сам можешь делать.
Технически, если уволю абсолютно всех, поставлю здесь 4 шторки и 3 стола для иглорефлексотерапии, буду принимать на иголках по 3 человека каждые 30 минут, 6 человек в час по 2000 рублей. Вычтем оттуда себестоимость этой иголки, работу медсестры, и получим, что в принципе я буду получать раза в 3 больше, чем получаю сейчас. А сейчас мой рабочий день укорачивается, потому что кабинеты заняты — ребята работают.
Но я деньги никогда не ставил вперед, мне в принципе хватает. Хороший специалист вообще в каше не нуждается. Если я пойду, например, в любой медицинский центр работать, с моим объемом пациентов они меня с руками и ногами заберут еще и на моих условиях. Когда у тебя есть люди, другие тебя возьмут стопудово, потому что ты ресурс.
А центр будет еще кросс-продажи с меня иметь, потому что кого-то на УЗИ, на МРТ нужно отправить. И еще, если у них там будет какое-нибудь физиолечение, то давайте 3-5 физио, потом контроль-оценка. А попутно еще какой-нибудь там зальчик спортивненький будет, и врача ЛФК в команду. И можно пакетное лечение продавать: пришли, лечение — 50 тысяч рублей, например, человек заплатил, и всё, у него нет варианта отвертеться. Прописал, что ему нужно в курсе лечения. И на это человек и ходит. И получает результат. И будет получаться лечить намного лучше.
— Это почти пассивное лечение как раз и получается. Когда за тебя всё оптом решили, а тебе только ходить.
— А так только и получится. Другие схемы не работают на людях. Самосознание работает, блин, на 10%. Если есть, уже хорошо. Все остальные на пассивном двигаются. В каком-то, не знаю, коллективном разуме.
— А почему не уходите в найм тогда?
— Своё создавать, знаете, всегда прикольней. Организация работы — это же хобби. Почему люди выбирают хобби? Оно неэффективное, забирает твои деньги и эмоции, но при этом что-то другое дает. Вот мне поэтому так интереснее. Это если тысяч 100 приносит — уже хорошо, а не минус 100.
— У вас образование только медицинское или ещё какое-то управленческое?
— Только медицина. Всё остальное это хобби.
— Как раскручивались с самого начала — сарафанное радио или соцсети?
— Соцсети всегда. Обязательно всем врачам надо вести социальные сети. Потому что без них ты не сделаешь себе имя. Если ты молодой, неглупый, но неопытный специалист, у тебя какие преимущества перед твоими опытными коллегами? Никаких. У тебя единственное преимущество, которое может быть — это сервис. И новизна знаний. Всё. Но ты будешь лучше понимать проблемы своего поколения, чем 60-летний доктор. Потому что проблемы людей, которые сейчас со смартфонами живут, ему будут непонятны. Он их проблем не чувствует. То есть как это вообще с телефоном сидеть? Как оно напрягается? Как это голова вообще вот так болит? И со зрением там будут проблемы. И кто-то эти проблемы пройдет и будет знать, как их решать. И он будет знать нужные слова, как их объяснить.
— Когда Инстаграм* стал запрещенной соцсетью, вы ушли в Телеграм?
— Да, я в Инстаграм* (Instagram* — продукт Meta, компания с 2022 года признана экстремистской и запрещена в России — прим. ред.) не захожу даже, рилсы там только постят. Когда начали подкасты делать, релиз там выставили, потому что аудитория там есть, врачи подписаны. Мне для них больше интересно.
— Телеграм — удобный инструмент?
— Единственная проблема в Телеграм — неудобно продвигать. Как образовательная какая-то платформа — да, деньги собирать по подписке — может быть. Как соцсеть? Ну, пока скорее нет. Но опять же это для нас. А для людей, которым сейчас 15, это совершенно по-другому работает. Я завёл Телеграм, и он неинтересен подросткам. Но это пока. У них уже начинаются проблемы с позвоночником, я думаю, лет 7-10 пройдёт, и Телеграм тут закачает хорошо.
— Тоже долгосрочное планирование.
— Конечно. Я всегда планирую на молодёжь. Потому что эти проблемы будут у них намного раньше. То есть мне нужно подключить туда молодёжь, которая зайдёт в Телеграм и скажет: «Мам, прикинь, смотри, вот что есть». И всё. Это уже касание, через которое человек к нам пришёл. А другие клиники этим не пользуются. Им интересен маркетинг в моменте. Нужно, чтобы сработало моментально, и человек пришёл. Какое-то объявление, контекстная реклама или что-нибудь такое. Мне это неинтересно, и качество пациентов, которые приходят с таких реклам, очень низкое. Это люди, которым дай результат, а делать они, менять что-то в своем образе жизни ничего не будут. Мне неинтересно с такими работать. Поэтому как вариант развития мы выбрали такой путь. К нам приходят только те, кому очень надо. Кто ищет путь к восстановлению, к реабилитации.
— Подкасты — это часть пиара или для души?
— У них комбинированная задача. Они вообще написаны исключительно для специалистов из дела. Потому что я не ставлю для себя задачу образовывать людей, я хочу показать другим специалистам, что есть разная медицина. И в диалоге между разными врачами обсудить, как это работает. Естественно, это должны быть врачи, которые в городе какой-то вес имеют, желательно соцсети свои ведут — люди, как правило, прислушиваются к мнению этих врачей. Плюс эти врачи начнут рекомендовать тебя и твоих специалистов. За счет этого ты будешь развиваться.
— Как видите через 7-10 лет себя и центр?
— Я вижу себя уже как человека, который не лечит. Скорее всего так. Потому что просто физически не будет времени этим заниматься. Вообще задача создать кафедру мануальной терапии. Её сейчас нет. Егор получает кандидатскую, и я его подгоняю на то, чтобы кафедру заново открыть. И сделать свои клинические базы, хотя бы штуки две. Чтобы мануальных терапевтов там учить и, возможно, прикладные специальности. Типа акушер-гинекологов мануальной терапии, работа с новорождёнными, с роженицами. То же самое с неврологами, травматолагами. То есть нужно знать ответвление специальностей влево-вправо для того, чтобы понимать, кого к кому отправить. Это вообще должен быть кластер в плане клиническая база, кафедра, учебный центр и экспертная клиника, в которой принимают только лучшие специалисты, которые туда дослужились.
И система эта работает так: молодой специалист приходит в учебную клинику, где он учится. Там студенты принимают, и цены совершенно бюджетные. А если с проблемами базовые специалисты не справляются, то пожалуйста — здесь у нас экспертное направление, там оборудование другое, специалисты другого уровня работают. Со стажем уже, зарплата у них будет другая. Вот такого формата что-то хочется сделать.
— А вы в этой системе где?
— Я как руководитель этой системы. Это очень большая управленческая работа. Нужно курировать, нанимать людей для того, чтобы бумажной волокитой с кафедрой заниматься. Потому что у меня на это времени точно не будет, я это понимаю. Это заплатить зарплату, нанять методистов и так далее. Опять же строить, лицензировать, ходить на проверки, проводить собеседования, управлять учебным центром. В клинике экспертного уровня тоже нужно будет смотреть, кого туда поставить, как ей работать, какие стандарты. И 100% будут какие-то и судебные случаи, и все — чем больше ты становишься, тем это неизбежнее. То есть к этому тоже нужно быть готовым. И преподаванием тоже заниматься — передавать философию работы, как это делается, с чего начинать, чего нужно бояться, чего не нужно, какие методики применять, какие-то свои стандарты и наработки. Этим всем нужно будет управлять.
Автор фото: Александра Сорока / sorokalife.ru
Текст готовили Дарья Балмашнова и Юлия Фурсова.
Lx: 15494