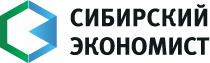Назначение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева министром энергетики, с одной стороны, можно рассматривать как перспективу облегчения тяжкого груза проблем угольной отрасли. Все-таки человек возглавлял регион, на территории которого сосредоточено более 44 процентов всех угольных ресурсов страны.
Ну да, новый министр в силах обеспечить какие-то налоговые льготы, надавить на хозяев морских портов, еще больше поумерить железнодорожные претензии нефтяников, поскольку до глобального расширения мощностей Восточного полигона железных дорог, который пока не справляется с переориентацией экономики России, еще далеко.

Но, с другой стороны, ожидать революционных перемен не приходится. Тренд не переломить даже гениальным государственным регулированием.
Так, прибыль до налогообложения предприятий российской угольной отрасли по итогам 2023 года снизилась по сравнению с 2022-м в 2,1 раза. Налоговые поступления сократились на 34 процента. Погрузка угля на сети РЖД по итогам первых пяти месяцев 2024-го уменьшилась на 5,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, какие бы льготы углю при этом ни давали.
Потому что доходность угля падает.
Да, некоторое время назад эталонные для азиатского рынка цены на австралийский энергетический уголь в порту Ньюкасл стали расти и еще более взлетели в 2022-м на фоне усиления спроса на уголь в Европе из-за санкций и высоких цен на газ.
Но теперь цифры возвращаются к многолетней норме. В апреле 2024 года средняя цена на энергетический уголь в Ньюкасле была на 31 процент ниже, чем в апреле 2023-го, и на 57 процентов ниже, чем в апреле 2022-го. Теперь эксперты пророчат, что в ближайшие полтора десятка лет ценовая ситуация вряд ли сильно изменится.
Кстати, Европу, пусть даже она так повлияла на мировые цены, в ближайшей перспективе можно смело выбросить из формулы благополучия не только российской (даже если взять и отменить санкции), но и мировой угольной отрасли.
Ведь доля угля в структуре электрогенерации в Евросоюзе снизилась с 12,3 процента в апреле 2023-го до 8,6 процента в апреле 2024-го. Это исторический минимум и тоже тренд. Так, в Германии весной 2024-го закрылись семь угольных энергоблоков общей мощностью 3,1 гигаватта. В интересах экологии ставка делается на атомные и возобновляемые источники. Да и, к слову, общемировая мощность угольных ТЭС, строительство которых началось в 2023-м (не считая Китая), дотянула только до трех гигаватт, а это тоже многолетний минимум. Еще несколько лет назад было 16 гигаватт.
На Турцию надежда тоже невелика, поскольку та вводит атомную станцию «Аккую», которая даст этой стране 10 процентов всей необходимой электроэнергии, а также осваивает найденное в 2020-м крупное газовое месторождение Сакарья в Черном море.
Остаются, по большому счету, Китай и Индия.
Китай велик и уголь покупает, но интенсивно расширяет использование возобновляемой энергии (в 2023-м обеспечил 63 процента мирового ввода мощности солнечных панелей и 65 – ветровых генераторов), а также идет впереди планеты всей в строительстве атомных реакторов. Ну и активно наращивает собственную добычу угля (а по его запасам Поднебесная занимает четвертое место после США, России и Австралии).

При этом Китай еще в 2014 году ввел импортные пошлины на уголь в размере 3–6 процента, заморозив их только с мая 2022-го до конца 2023-го (а вот Австралия поставляет в Китай уголь без пошлин, по соглашению о свободной торговле). Вопрос об отмене пошлин давно обсуждается Москвой и Пекином, но пока не решен. А такая мера могла бы увеличить оборот российских предприятий угольной отрасли примерно на 150 миллиардов рублей в год.
Только Индия не подкладывает столовыми ложками дегтя в уменьшающуюся емкость с медом для российских угольщиков, радуя их к тому же потенциалом спроса на сталь, для получения которой нужен коксующийся уголь. Этого добра, которое обеспечивает жар доменной печи при выплавке железной руды, у России 11 процентов от всех ее угольных запасов (сейчас осваивается крупнейшее на территории России Эльгинское месторождение), но покупают другие страны его плохо. Так, та же Европа практически ушла от доменного производства из-за всё тех же соображений экологии и еще до санкций предпочитала покупать у России сразу стальной прокат.
Такие дела.

И вот минэнерго РФ, ранее говорившее о планах снизить долю угля в стране в общем объеме энергопроизводства с 14 до 8 процентов к 2050 году, теперь ставит «задачу номер один для угольной промышленности – обеспечение внутреннего спроса». При этом в России в период с 2000 по 2023 годы безо всякой целенаправленной стратегии было введено в строй новых угольных ТЭС на 6,6 гигаватта, а выведено из эксплуатации – на 9,6.
И у угольщиков есть ведь конкуренты и внутри страны. Например, «Росатом» планирует ввод новых мощностей в пока активно использующих угольные ТЭС Сибири и на Урале (по два энергокомплекса с реакторами большой мощности) и взялся за малые модульные реакторы (начав с Якутии). И «Газпрому» надо сбывать свою освободившуюся продукцию...
Видимо, министерству энергетики, действуя в интересах угольной отрасли, придется продолжать прилагать титанические усилия с заведомо очень скромными результатами. А прилагать надо, поскольку угольщиков никуда не денешь, а спрос на уголь в мире все же не обнулится, ибо этот источник энергии дешев. То есть отрасль надо перестраивать, а это с неизбежностью процесс весьма болезненный. И да, требующий почти гениальных решений.
Lx: 5469