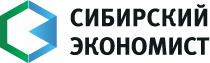Так и не смогли найти инвестора для шахты «Инской», скандал по поводу невыплат зарплат на которой стал громким стартом истории кризиса угольной отрасли в России.
Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев в конце января сообщил, что поиски продолжаются. А ведь представитель «Инской» Татьяна Силенко обнадеживала на заседании о банкротстве шахты в Арбитражном суде Новосибирской области, что некая китайская компания намерена выкупить 100 процентов предприятия, уже нашла покупателей на уголь в лаве, а окончательное решение должно быть принято в конце января. То есть - не вышло.
Получается, все это время каждая из сторон, на которые надеются (или уже нет) горняки, решала какие-то свои задачи. Ведь сообщения о найденных спасителях (без их названий) звучали уже трижды, но с небес так никто и не спустился. А шахта все движется предначертанным судьбой путем. На данный момент из более чем 400 ее штатных работников осталось 175. Они поддерживают шахту в режиме жизнеобеспечения и охраняют. Судя по стыдливому молчанию в эфире, долг по зарплате в 65 миллионов рублей так и не погашен, ибо некому.
Сейчас власти сообщают, что серьезной задержки заработной платы нет ни на одном угольном предприятии. Но, по словам заместителя губернатора Кузбасса Андрея Панова, в 2024 году восемь угледобывающих предприятий приостановили свою работу. Добыча угля сократилась на 15,8 миллиона тонн в сравнении с 2023 годом. Это привело к уменьшению доходов бюджета на 40,6 миллиарда рублей (а в 2023-м доходы кузбасской казны составили 271,6 миллиарда рублей).
Панов отметил, что кризис в отрасли закономерно затрагивает не только угледобытчиков, но и в целом негативно сказывается на экономике угольных регионов. Бюджеты опустошаются, растут сроки строительства и развития инфраструктуры, сокращаются социальные программы и выплаты.

Недавно выяснилось, что в угольном крае теперь даже не могут обеспечить людей сортовым углем. Кузбасские города строились по принципу слияния шахтовых поселков. Значительная часть жилого сектора до сих пор отапливается угольными печами. Топливо поставлялось с ближайшей шахты. Разница между рыночной стоимостью и льготной компенсировалась из бюджета, но чаще угольщики закрывали глаза на нее. Теперь не закрывают, тем более в отношении более дорогого сортового угля, – а из казны готовы гасить только затраты на обеспечением рядовым.
В общем, добыча угля в России в 2024 году сократилась на 0,6 процента, что вроде бы не слишком критично. Но если посмотреть по составляющим, то более всего просел каменный энергетический уголь, используемый в электроэнергетике: добыча битуминозного энергетического угля упала на 4,7 процента, антрацита, премиального вида угля, на 13,6 процента. Коксующийся уголь, применяемый для выплавки стали, даже подрос в добыче – на 3,7 процента.
Увеличилась, причем на 7,2 процента, и добыча наименее ценного бурого угля, который применяют и в жилищном секторе.
Очевидно, что главное значение для самочувствия отрасли имеют ситуации по первым двум видам, то есть каменному и коксующемуся (это три четверти угледобычи).
Света в конце тоннеля по каменному зажечь некому. Цена вернулась к многолетней норме, российским компаниям стало сложнее финансировать логистические издержки (транспортное плечо при экспорте выросло на четверть). К образовавшимся в 2022 году дисконтам добавились санкции США. Из-за угрозы вторичных санкций от рынка стал отползать и Китай, к тому же, из-за роста собственной добычи, он ввел импортные пошлины (в итоге поставки каменного угля из России упали на 13 процентов в 2024-м). Китай к тому же еще и развивает семимильными шагами (а что он развивает не семимильными?) возобновляемую энергетику.
А коксующийся уголь более востребован, в том числе благодаря пассионарной Индии, где спрос растет из-за урбанизации.
Как подчеркивает в связи с этими аргументами известный эксперт по энергетике Кирилл Родионов, единственная доступная задача регулятора – смягчить последствия тектонических сдвигов в отрасли. А они неизбежны: сокращение добычи энергетического угля, рост доли коксующегося, смещение географии добычи на восток для снижения транспортных затрат.
В связи с этим субсидирование железнодорожных перевозок угля в порты в европейской части России представляется в смысле эффективности оздоровления отрасли припарками. Убыточные и низкорентабельные шахты, а это четверть российской угледобычи, с высокой вероятностью движутся к закрытию. И тут очень важно, насколько врозь будет уголек при решении возникающих социальных проблем.
Фото: ,
Lx: 4586