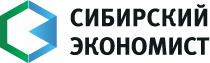Ужесточение миграционной политики в России заметно усложнило жизнь трудовым мигрантам из стран бывшего СНГ. Коснулось это и Дальнего Востока, где дефицит рабочей силы хронический. Новые правила касаются практически всего: теперь для получения патента на работу нужно подтверждать знание русского языка, основ истории и законодательства страны. Всё чаще фиксируются случаи депортации за нарушение миграционного режима.
Такие меры могли бы освободить рабочие места для местных жителей. Но на практике происходит замещение мигрантов другими мигрантами.
В ближайшем будущем на Дальний Восток хлынет новая волна трудовой миграции — теперь уже из стран Южной Азии. Так, на стройки Хабаровского края в этом году привлекут около 600 вьетнамцев и 60 индонезийцев. Амурская область ожидает более 500 рабочих из Индии и 100 — с Филиппин. В Забайкалье планируется приезд полутора тысяч специалистов из Мьянмы. А Приморье запросило 312 трудовых мигрантов из Индонезии, 157 — из Вьетнама, и еще 255 бангладешцев для работы на Ливадийской судоверфи.
На первый взгляд, это выглядит как попытка навести порядок в сфере трудовой миграции. Ведь в отличие от "привычных" мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, работники из Южной Азии будут въезжать по трудовым визам. Это значит: официальная регистрация, контроль, обязательное заключение трудового договора, разрешение на привлечение рабочей силы у работодателя и привязка к конкретному региону или проекту. Всё прозрачно, законно и под контролем.
Звучит логично, но только до тех пор, пока не возникает главный вопрос: если цель была — сократить поток мигрантов, то зачем завозить новых?
Очевидно, что речь идёт не о высококвалифицированных кадрах. Новые мигранты не займут вакансии инженеров, программистов или специалистов узкого профиля. Их будут использовать там же, где и раньше — на стройках, в ЖКХ, на уборке, подсобных работах. Зарплаты — соответствующие: в диапазоне 35–55 тысяч рублей, в зависимости от региона. Для иностранного работника это может быть привлекательно, а для работодателя — выгодно.
Отметим, что мигранты из Центральной Азии, которые ещё недавно считались "дешёвой силой", сегодня, по данным кадровых агентств, просят от 80 тысяч рублей и выше. Спрос рождает аппетиты, и теперь работодателям они стали невыгоды. Но стоит ли надеяться, что история не повторится? Зарплаты и у новых мигрантов начнут расти по мере их востребованности — это неизбежно.
Замена миграционного потока не решает и проблему социальной напряжённости. Люди вряд ли будут делать различие, откуда именно приехал человек — из Ташкента или из Нью-Дели. В массовом восприятии — это "мигрант", который "отнимает рабочие места", "снимает квартиры" и "создаёт проблемы". Хотя часто речь идёт о вакансиях, на которые местные просто не идут.
Добавим к этому ещё и языковой барьер: если таджики, узбеки и кыргызы в большинстве своём понимают и говорят по-русски благодаря советскому прошлому, то у вьетнамцев, индийцев или филиппинцев знание русского — редкость. Это усложняет как быт, так и взаимодействие с местным населением. Конечно, их планируют обучать языку, но этот процесс не быстрый. Сюда же можно добавить культурные различия, менталитет, нормы поведения — всё это может спровоцировать новые конфликты.
Не стоит забывать и о том, что в Россию из Центральной Азии едут далеко не самые квалифицированные кадры. Более амбициозные находят себя в других странах — Турции, Южной Корее, ОАЭ, Катаре, а также в Евросоюзе и США, где зарплаты в разы выше. Россию же часто выбирают из-за безвизового режима и более простой процедуры легализации. В итоге ужесточение условий просто делает страну менее привлекательной, но проблему нехватки рабочих рук не решает.
Возможно, вместо того чтобы менять шило на мыло, стоило бы просто навести порядок в существующем потоке мигрантов. Упорядочить механизмы приёма, создать полноценную систему отбора и адаптации, в том числе в странах исхода. Обучение языку, ознакомление с законами, медобследование, предварительный отбор работодателем — всё это реально сделать. Это позволило бы, с одной стороны, снизить серую занятость и криминализацию миграции, а с другой — сделать этот процесс более управляемым и безопасным.
Такой способ привлечения рабочей силы обсуждали губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов в ноябре прошлого года. В регионе создали агенство миграционной политики, которое должно контролировать процесс. Но как мы видим Приморье тоже в числе тех, кто заинтересован в рабочих руках из Южной Азии.
В сухом остатке мы получаем следующее: политика изменилась, правила ужесточились, но суть осталась прежней. Россия по-прежнему зависит от дешёвой иностранной рабочей силы. Только теперь вместо мигрантов из СНГ — будут мигранты из Южной Азии. Меняются флаги, меняются акценты, но проблемы остаются прежними. И если не заниматься системно вопросами миграции, адаптации и интеграции — не помогут ни визы, ни запреты, ни новые направления.
Фото: Тольятти — паблик в ВК
Lx: 5031