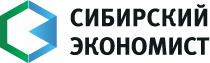Заявления Владимира Путина на Международном арктическом форуме, состоявшемся 26–27 марта 2025 года в Мурманске о развитии транспортной инфраструктуры Арктики, расширении портов и поддержке туризма в северных регионах звучат амбициозно, однако их реализация сталкивается с рядом серьёзных проблем.
Одной из центральных идей выступления стало поручение обеспечить железнодорожный выход Сибири и Урала к арктическим портам, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль. Однако существующие железнодорожные направления, такие как Санкт-Петербург — Мурманск, Вологда — Архангельск, Котлас — Воркута, Котлас — Лабытнанги и Тюмень — Новый Уренгой, в основном представляют собой меридиональные тупиковые ветки, не связанные между собой в единую сеть. Большинство из них не электрифицированы, что снижает их пропускную способность и увеличивает эксплуатационные расходы. Планы по строительству новых веток, таких как Ухта — Индига, Воркута — Усть-Кара, Лабытнанги — Харасэвэй, Коротчаево — Норильск и других, заложенные в стратегии 2020 года, к 2025 году не показали значительного прогресса. Это ставит под сомнение возможность эффективного снабжения арктических портов грузами, необходимыми для их полноценного функционирования.
Расширение арктических портов, о котором говорил президент, теряет смысл без чёткого понимания, какие грузы и куда будут через них транспортироваться. Большинство портов региона, за исключением Мурманска, значительную часть года скованы льдами, что делает их эксплуатацию зависимой от ледокольного флота.
Вопрос о том, какие товары будут доставляться по морю в эти порты или, наоборот, отправляться из них по железной дороге, остаётся открытым. Например, потенциал Северного морского пути (СМП) для транзита грузов между Европой и Азией пока ограничен: в 2023 году грузооборот СМП составил 36 миллионов тонн, что значительно ниже проектных 80 миллионов тонн к 2030 году, согласно данным Минвостокразвития. Основной поток грузов — это сырьё (нефть, газ, уголь), но их транспортировка требует специализированных терминалов, которых пока недостаточно.
Для круглогодичного функционирования арктических портов необходим мощный ледокольный флот. Россия действительно является лидером в этой области: на 2024 год в её распоряжении находится 7 атомных ледоколов, включая новейший «Лидер», и около 30 дизельных. Однако для реализации амбициозных планов по развитию СМП и новых портов этого недостаточно.
По оценкам экспертов «Росатома», к 2030 году для обеспечения навигации потребуется не менее 12 атомных ледоколов, а их строительство обходится дорого — один ледокол типа «Арктика» стоит около 50 миллиардов рублей. Кроме того, обслуживание флота требует развитой береговой инфраструктуры, которой в Арктике пока не хватает.
Кроме того, давно назрело формирование гибкой тарифной системы на услуги ледоколов, чтобы сделать их использование экономически приемлемым для бизнеса. Ещё более назрело развитие технологий автономного судоходства и цифрового управления транспортными потоками, что позволит сократить издержки на арктических маршрутах. Однако об автономном судоходстве на российском севере вопрос даже пока не ставится.
Нельзя забывать также о Китае, который активно вкладывается в развитие собственного ледокольного флота. Не исключено, что в ближайшие годы именно Китай будет претендовать на лидерство в вопросах ледокольной проводки в Арктике.
Ещё в 2018 году Китай представил концепцию «Полярного шёлкового пути», подчёркивая намерение развивать инфраструктуру и проводить коммерческие рейсы в Арктике. Этот документ стал поворотным моментом, обозначив планы по созданию нового ледокольного флота. В 2019 году в строй вошёл «Сюэлун-2» («Xue Long 2»), первый ледокол, полностью построенный в Китае на верфи «Jiangnan Shipyard» при поддержке финской компании «Aker Arctic», специализирующейся на проектировании ледоколов. Этот корабль стал значительным шагом вперёд: он меньше купленного в 1993 году и долгое время остававшегося единственным китайским ледоколом «Сюэлуна» (водоизмещение 13900 тонн против 21000 тонн), но более современный и мощный. «Сюэлун-2» способен непрерывно ломать лёд толщиной до 1,5 метра на скорости 2–3 узла и оснащён двумя винтами, позволяющими ему двигаться как носом, так и кормой, что повышает манёвренность. Судно также имеет вертолётные ангары и помещения для 180 членов экипажа, что делает его идеальным для длительных научных экспедиций.
В 2024 году Китай ввёл в эксплуатацию ещё два ледокола: «Цзиди» («Jidi», «Полярный регион») и «Тань Со Сан Хао» («Tan Suo San Hao»). «Цзиди» был спущен на воду в июне 2024 года и официально введён в строй 5 июля в Циндао. Этот ледокол, построенный компанией «CSSC Offshore & Marine Engineering» в Наньша, имеет длину 89,95 метра, водоизмещение 5600 тонн и способен ломать лёд толщиной до 1 метра на скорости 2 узла. Он оснащён дронами, беспилотными судами и подводными роботами, что позволяет проводить комплексные исследования атмосферы, морского льда, водных масс и геофизики. «Цзиди» предназначен для работы в Жёлтом и Бохайском морях зимой, а летом — для экспедиций в Арктике. «Тань Со Сан Хао», спущенный на воду в начале 2024 года, немного крупнее (длина 103 метра, водоизмещение 9200 тонн) и ориентирован на глубоководные исследования в полярных регионах. Оба судна были построены в рекордно короткие сроки — около двух лет».
В августе 2024 года стало известно, что Китай ускоряет строительство сверхмощного исследовательского ледокола следующего поколения. Ожидается, что судно сможет пробиваться сквозь лед толщиной более 2 метров и будет работать на экологически чистом топливе. Проект будет завершён в 2025 году.
Визит Путина в Мурманск, вероятно, был чисто политическим ответом на планы США по усилению влияния в Арктике, включая визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Гренландию. Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерении присоединить Гренландию, что усиливает конкуренцию за контроль над регионом. Россия, на долю которой приходится треть Арктической зоны, стремится укрепить свои позиции, но санкции, введённые после 2022 года, ограничивают доступ к западным технологиям и финансированию. Это затрудняет реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство новых портов и железных дорог.
На крайне сложную ситуацию России в Арктике влияет ряд общеэкономических факторов.
Российская экономика в 2024 году столкнулась с ростом инфляции и сокращением Национального фонда благосостояния с 13 триллионов рублей в 2022 году до 11 триллионов в 2024 году. Это снижает возможности государства финансировать масштабные проекты в Арктике.
Таяние льдов открывает новые возможности для судоходства, но одновременно создаёт риски для инфраструктуры из-за деградации вечной мерзлоты. По данным Минприроды, ущерб от таяния мерзлоты к 2050 году может составить 5 триллионов рублей.
Интерес к арктическим проектам проявляют страны, такие как Китай, ОАЭ и Белоруссия, но их участие осложняется геополитической напряжённостью. Например, Китай, несмотря на рост поставок газа через «Силу Сибири» (38 миллиардов кубометров в 2024 году), сократил импорт российской нефти на 20% из-за угрозы вторичных санкций США.
Санкции ограничивают доступ к современным технологиям, необходимым для строительства ледоколов, портов и железных дорог. Это увеличивает зависимость от внутренних ресурсов, которые пока не могут полностью закрыть потребности. Не исключено, что вместо амбициозных и заведомо невыполнимых планов, имеющих скорее политическое значение, имеет смысл не распылять ресурсы, а сосредоточиться на одном-двух критических направлениях, например, ветке Коротчаево — Норильск.
Несмотря на оптимизм главы государства (с плохо скрываемой тревогой, в частности, по поводу резкого падения грузов, перевозимых Северным морским путём), видится отсутствие целостного видения железнодорожной сети, соединяющей Арктику с основными промышленными центрами России, и непонимание, какие грузы будут поступать в расширяемые северные порты и куда они будут отправляться.
Тем не менее, при чётком планировании и грамотном применении управленческих решений, в «новом» освоении Арктики есть определенный шанс и потенциал.
Для реализации инфраструктурных проектов можно активнее привлекать частный бизнес и партнёров из дружественных стран. Например, Китай уже инвестировал 5 миллиардов долларов в проекты СМП, включая терминалы в Архангельске. Индия с её бесконечным потенциалом также заинтересована в использовании Северного морского пути.
Увеличение числа атомных ледоколов должно стать приоритетом. Государство может ускорить строительство новых судов, а также развивать портовую инфраструктуру для их обслуживания. Например, модернизация Мурманского транспортного узла, о которой говорил Путин, может стать основой для создания логистического хаба, способного обслуживать ледоколы и грузовые суда.
Вместо строительства разрозненных меридиональных веток необходимо сосредоточиться на создании единой железнодорожной сети, связывающей Арктику с Сибирью и Уралом. Это потребует пересмотра планов 2020 года и приоритизации ключевых направлений, таких как Ухта — Индига, с последующей электрификацией.
Государству следует разработать стратегию, определяющую, какие грузы и в каком направлении будут транспортироваться через арктические порты. Например, акцент можно сделать на экспорте минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь) в Азию, где спрос на энергоносители растёт. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году потребление газа в Китае увеличится на 30%, что открывает значительные перспективы для России. В то же время фактическая блокировка «Силы Сибири - 2» открывает значительные возможности для транспортировки газа через альтернативные транспортные системы.
Для минимизации экологических рисков и решения проблем с вечной мерзлотой необходимо усилить научные исследования. Россия, как заявил на форуме глава «Росатома» (фактически владельца атомного ледокольного флота России) Алексей Лихачёв, лидирует в арктической науке, но требуется больше международного сотрудничества, например, через Арктический совет, несмотря на текущие политические разногласия.
Без этих шагов амбициозные планы рискуют остаться декларациями, а Арктика — нереализованным потенциалом. России нужно действовать быстро, чтобы сохранить лидерство в регионе, пока конкуренты не перехватили инициативу.
Lx: 10385