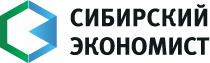Нас тут, оказывается, решили осчастливить. Еще в январе 2025 года научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, д.и.н. Сергей Караганов на страницах журнала "Россия в глобальной политике" двинул идею "сибиризации" России. № 1 январь/февраль 2025 года, если кому интересно посмотреть. Непосредственным поводом для обращения к этой теме стало интервью Караганова, которое он дал "Омск-информ" после конференции в Тобольске, прошедшей в конце апреля 2025 года, в котором он излагал основные идеи своей "сибиризации".
В этих деталях все самое интересное. Несмотря на статусность заведения - Высшей школы экономики, также известной под двусмысленным прозвищем "Вышка", где Караганов профессорствует, и несмотря на статусность издания, его опубликовавшего, на его идеи тогда, в январе 2025 года, не обратили никакого внимания. К примеру, мне не доводилось слышать об этой самой "сибиризации". Теперь же, когда, очевидно, вопреки ожиданиям, идея "не грохнула", пришлось автору ее нести в массы непосредственно в Сибири. Вот этот момент очень интересен. Идея, которая потенциально должна в Сибири быть зажигательной и воодушевляющей, не только не была подхвачена, но и вообще осталась практически без внимания.
Почему? Потому что статья Караганова и его соавтора, аспиранта Илья Козылова, в сущности, не содержит ничего нового. Это снова природные ресурсы, снова пространство, снова переселение, правда, с неким новшеством - заселение Сибири мигрантами из дальних стран, включая Индию, Пакистан и Бангладеш, транспортные коридоры и экспорт, ну и конечно, перенос если не столицы, то некоторых федеральных ведомств в Сибирь.
Караганов также предлагает создать два производственных центра или, как у него сформулировано: "Так, давно назрела и перезрела концепция создания как минимум ещё двух научно-производственных комплексов, основанных на науке и глубокой переработке уникальных минеральных ресурсов новым машиностроением – в районе Красноярска – Енисейска и Иркутска – Читы". Вот после такого нельзя не сказать: занимался бы уважаемый профессор мировой политикой и рассуждениями о мировых цивилизациях.
Ну и что в этой "сибиризации" такого, чего мы не видели и не слышали? В интервью Караганов несколько иначе расставил акценты и, в частности, заговорил о том, чтобы сделать Сибирь модной, но в очень неконкретных и общих выражениях. Вот, собственно, в этих трех пунктах: завоз мигрантов из Пакистана и Бангладеш, создание неких центров, в которых машиностроение будет пожирать минеральные ресурсы, а также мода на Сибирь, вся новизна предложенной "сибиризации" и исчерпывается.
Да и то, новизна относительная. Мигранты уже явочным порядком есть, наверное, в том числе и из Пакистана и Бангладеш; машиностроением в Красноярском крае все пытается удивить Корпорация развития Енисейской Сибири, правда, пока без особого успеха; мода на Сибирь уже была в форме игорной зоны на Алтае. Игорный проект живет и здравствует, в июле-сентябре 2024 года его посетили 26,2 тысячи человек.
С учетом этих обстоятельств, получается, новизна в проекте "сибиризации" Караганова и вовсе отсутствует. Раз так, то, получается, что это очередная имитация, за которой ничего не стоит. В первую очередь не стоит какой-либо фундаментальной идеи.
Отважусь предположить, что Караганову поступило настоятельное предложение в ответ на определенное шевеление в Сибири что-нибудь сделать, чтобы несколько утихомирить тамошнюю публику. Только вот уважаемый профессор сделал так, что лучше бы не брался совсем. Абсолютно неудовлетворительно!
Это, кстати, бросает тень и на вышестоящие структуры, если у них эксперты такие, что не могут придумать ничего нового.
Вообще, правильная стратегия должна начинаться с вопроса: "Что Сибирь будет делать?". Ответ должен умещаться в короткий абзац, еще лучше, в одно предложение, а идеал - одно или два слова.
Причем "делать" - это в самом широком смысле, это комплекс производств вместе со связанными социально-экономическими феноменами. Например, Центрально-Промышленный район в Российской империи, сложившийся еще при Государе Императоре Николае I, "делал" городскую культуру европейского облика, со всеми полагающимися ей атрибутами и принадлежностями: фабричные ткани и одежда городского покроя, мебель, бытовая утварь и так далее, вплоть до высшего образования, просветительской и научной литературы, издание которой в те времена было целой отраслью промышленности. Все это растекалось по империи, где в губернских и уездных городах возникали анклавы и анклавчики городской культуры и связанного с ней образа жизни и потребительского стандарта. Отдельные элементы городской культуры даже стали проникать в сельский быт, бывший в то время в основной своей массе домотканно-посконной. Вот это "делание" и сформировало экономическую структуру сначала Российской империи, а потом и СССР, в которой Москва тоже была центром, формировавшим культурные импульсы. Центр вбирал в себя массу сырья, материалов, топлива, а также и людей, а потом распространял продукты и преобразованных людей по всей территории страны, вплоть до самых, до окраин.
Определенный кризис в социально-экономическом развитии России оказался, на мой взгляд, связан, в том числе и в том, что Москва утратила роль преобразующего социально-экономического центра еще в 1980-х годах. Теперь это хорошо обустроенный город, но уже не задающий стандарта и, самое главное, этого своего стандарта не распространяющий.
Вот это интересный вопрос: "Что Сибирь будет делать?". Это вопрос жесткий, неумолимый, поставленный ребром, который не терпит пустых наукообразных разглагольствований.
На этот вопрос можно дать несколько вариантов ответов. Принятие одного из их определит дальнейшую историческую судьбу Сибири, а вместе с ней и России в целом. Причем на длительный период, на века вперед. Чтобы обсуждать и принимать такие судьбоносные решения, требуется уже не стопка дипломов и умение ловко жонглировать научной терминологией, а умение смотреть в самый корень дела, не страшась жестких формулировок. Правда, есть очень большие сомнения в том, что подобное обсуждение произойдет, не говоря уже о решении и его исполнении.
Lx: 6143