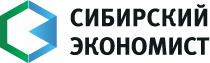Очередной аукцион по продаже квот на вылов глубоководных крабов в Сахалинской области снова сорвался. Никто не захотел участвовать — лоты остались без покупателей. В чем проблема? Давайте разберемся.
Никому не нужны крабовые миллиарды
На торги выставили две 50-процентные доли квот на вылов краба-стригуна красного в подзонах Приморье и Западно‑Сахалинская, а также стригуна ангулятуса в подзонах Восточно‑Сахалинская и Северо‑Охотоморская. Начальная цена каждого лота — 1,4 миллиарда рублей. Казалось бы, серьезная добыча, серьезные деньги. Но к этим лотам прилагается обязательство построить современные среднетоннажные краболовы длиной более 50 метров.


Аукцион запустили в конце декабря, прием заявок продлился до 21 января — но никто даже не подал документы. Возможно, потенциальные инвесторы еще не отошли от новогодних праздников, но, скорее всего, проблема в другом: такие условия попросту никого не заинтересовали.
Это уже не первая попытка продать эти квоты. Крайняя была в ноябре 2024 года. Начальная цена была 1,6 миллиарда, но и тогда покупателей не нашлось. Теперь Росрыболовство решило сделать еще одну — 26 февраля запланирован новый аукцион с ценой 1,3 миллиарда. Но вероятность, что лоты снова зависнут, очень высока.
Откуда взялись инвестиционные квоты?
Инвестиционные квоты появились в 2017 году. Это государственный механизм распределения прав на вылов биоресурсов на территории России (в основном на Дальнем Востоке и в Северном бассейне). Как уже говорилось, компании, получающие квоты, обязуются вложиться в строительство новых судов или инфраструктуры.
Сначала размер квот составлял 20%, но с крабом правительство пошло дальше, увеличив их до 50% в 2019 году на 15 лет. В первый же год эта схема показала себя очень прибыльной — государство заработало 142,4 миллиарда рублей, по некоторым лотам суммы превышали стартовые почти в 10 раз. На втором аукционе в 2023 году сумма достигла 214,5 миллиардов, а президент России Владимир Путин предложил направить часть средств от их продажи на развитие рыболовецких населенных пунктов. Деньги выделили, но всего 2,3 миллиарда.

Главная идея была в том, чтобы создать здоровую конкуренцию и пустить в отрасль новых игроков. Раньше крабовый бизнес был закрытым клубом: добыча осуществлялась по историческому принципу, то есть компаниями, которые уже работали в отрасли и имели опыт добычи.
Как получилось в реальности?
На бумаге идея выглядела отлично. На деле же участие в аукционах оказалось доступно только для крупных компаний, а те, кто пытался с ними конкурировать, залезли в долги. Условия жесткие: деньги за лот нужно отдать сразу, а окупать вложения — как можно быстрее. К тому же рыбопошмышники столкнулись с задержками со стороны верфей и кратным удорожанием проектов.
Помимо этого вмешались и санкции со стороны Европы и США, которые закрыли рынки сбыта. Пришлось срочно переориентироваться на Азию и внутренний рынок. Все это привело к повышению цен для потребителей. А крабы и так были удовольствием доступным не всем.
К тому же не проданные квоты приводят к тому, что часть ресурсов не осваивается. Это снижает прибыльность отрасли и делает крабов на рынке еще более дефицитными.
Почему именно глубоководные крабы никому не нужны
Из всей этой истории сложнее всего с глубоководными крабами, в том числе стригуном и ангулятусом. Эти виды остаются в числе самых нерентабельных. По статистике, 40% предприятий, занимающихся их добычей, работают в убыток.
Это связано с тем, что глубоководных крабов нельзя поймать обычными краболовами — нужны дорогие траулеры (стоимость одного может доходить до 2 миллиардов рублей) и специальное оборудование. Также для сохранения товарного вида мяса его нужно правильно очистить, разделать, упаковать и заморозить — а это дополнительные расходы. В итоге ставка по стригунам ангулятуса и красного составила 8 тысяч рублей за тонну, а прибыль с нее достигает смешных 182 долларов.

Также проблемой является высокое содержание мышьяка в мясе глубоководных крабов. Это существенно влияет на его реализацию в России. Согласно действующим санитарным нормам, содержание мышьяка в морепродуктах не должно превышать 5 мг/кг. Однако исследования показали, что в мясе глубоководных крабов концентрация мышьяка может достигать 30 мг/кг, что в несколько раз превышает допустимый уровень.
Экспорт спасает: в Японии, Южной Корее и Китае требования к содержанию мышьяка мягче, и именно туда уходит основная продукция. В 2023 году на эти рынки отправили 85,6 тысячи тонн крабов — на 18,7% больше, чем годом ранее.
Важно отметить, что мышьяк в морепродуктах представлен в основном в органической форме, которая не считается токсичной. Но российские санитарные нормы этого не учитывают, из-за чего глубоководные крабы фактически выпадают из внутреннего рынка.
Пора закрывать лавочку
В декабре 2024 года ВАРПЭ (ассоциация рыбохозяйственных предприятий) предложила убрать глубоководных крабов из списка инвестиционных квот. Их добыча слишком затратна и невыгодна для бизнеса, а государство теряет доходы от непроданных квот. Также с публичной критикой системы выступил сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.
В прошлом году под квоты выделили 6,4 тысячи тонн глубоководных крабов в Дальневосточном и Северном бассейне, но они так и остались невостребованными. В результате бюджет не добрал налогов, а крабы остались в океане.
Лучшим решением было бы вернуть глубоководных крабов в систему обычных промышленных квот. Да, это уменьшит конкуренцию, но зато обеспечит освоение ресурсов и даст рынку стабильность. Плюс это поможет регулировать популяцию крабов, чтобы они не вылавливались сверх нормы.
Инвестиционная модель для этих видов крабов не работает. И чем быстрее это признают, тем лучше для отрасли.
Фото: crab-dv.ru, sakhalin.fish.gov.ru
Lx: 5925